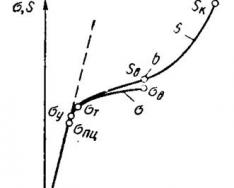В 1791 г. в "Московском Журнале" Карамзина стали печататься "Письма русского путешественника", написанные под непосредственным впечатлением автора от виденного им за границей, когда он "вырвался из объятий своих друзей и отправился один со своим чувствительным сердцем".
Форма писем - литературная условность, но писатель старается создать иллюзию их подлинности. Эпистолярная форма предоставляет максимум возможностей для непосредственного выражения настроений и эмоций. Все, о чем говорится в романе, - окружающий мир, природа, люди, события, - показано через восприятие главного героя. Ю.М. Лотман отмечал, что Карамзин вводит в "Письма" то, чего не было ни у одного из авторов "путешествий" раньше - эволюцию души героя, поскольку наивный юноша, севший в коляску, возвращается значительно менее сентиментальным в своих суждениях, и называл "Письма" романом о формировании души молодого русского дворянина, столкнувшегося с политической и культурной жизнью современной ему Европы.
Основная особенность характера героя-повествователя - напряженная жизнь чувства и мысли. Он тяжело переживает разлуку с друзьями, чувствует себя одиноким и осиротевшим. В "Письмах русского путешественника" доминирует грустное настроение, иногда даже кажется, что автор не позволяет себе быть счастливым и долго предаваться приятным мыслям. В повествование вводятся трогательные истории о трагичности человеческой судьбы, неумолимости рока, кратковременности и зыбкости человеческого счастья.
Внимание путешественника привлекают памятники старины, в которых он пытается не только увидеть следы людей прошлого, но и проникнуть в их внутренний мир, понять, чем они жили. Особенно разыгрывается фантазия писателя при виде руин древних замков, которые он мысленно населяет жившими там когда-то людьми, или при посещении кладбищ.
С целью найти ответ на волнующий его вопрос о сущности счастья, о назначении человека, он посещает всех выдающихся философов, богословов, историков и писателей тогдашней Европы - Канта, Лафатера, Виланда, Гердера, Бонне, - ведет с ними продолжительные разговоры. Много места уделено Вольтеру и Руссо, которых путешественнику уже не удалось застать в живых (оба они умерли в 1778 г.). Особенно близок его душе Руссо: он посещает места, где бывал Руссо, места, описанные в "Новой Элоизе", цитирует целые страницы из произведений этого писателя, умиляется чувствительности автора и его героев, приходит в восторг от популярности Руссо среди его соотечественников, даже простых крестьян, которые знают "Новую Элоизу".
Подлинно счастливые люди, по Карамзину, - это чистые сердца, которые не требуют слишком многого от судьбы и умеют жить в мире с собою. Основа счастья - дружеская беседа, созерцание красот природы, радости любви. Такое счастье это доступно всем, независимо от того, к какому слою общества принадлежит человек. Воплощение его - добрая семья, собравшаяся у обеденного стола.
Поэтому даже изображая царствующих особ Карамзин постоянно стремится увидеть жизнь их сердца, почувствовать в них людей, рассказывая различные любовные истории (Генрих II и Диана Пуатье, Людовик XIV и герцогиня Лавальер).
Идеалом монарха для Карамзина в это время оказывается Петр I, государь, "которому нигде не было подобных". В Петре Карамзин видит поборника просвещения, борца за цивилизацию, подчеркивая при этом простоту, демократичность, трудолюбие, скромность. Все это характерно для восприятия фигуры Петра в XVIII веке, но Карамзин придает Петру качество, которое считает необходимым во всяком монархе, - чувствительное и нежное сердце. Поэтому с таким восторгом отзывается автор о сентиментальной драме Бульи "Петр Великий", которую ему довелось увидеть в итальянском театре и в которой царь выступает в качестве доброго монарха и верного возлюбленного, для которого обладание сердцем возлюбленной важнее всех государственных дел.
Исследователи творчества Карамзина отмечали отсутствие индивидуализации героев в "Письмах русского путешественника" и объясняли этот прием характерным для Карамзина-сентименталиста представлением о том, что все люди равно могут чувствовать и говорить, независимо от занимаемого ими в обществе места.
40. Карамзин – историк
Интерес к истории возник у Карамзина с середины 1790-х годов. Он написал повесть на историческую тему - «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (опубликовано в 1803). В этом же году указом Александра I он был назначен на должность историографа, и до конца своей жизни занимался написанием «Истории государства Российского», практически прекратив деятельность журналиста и писателя.
«История государства российского» Карамзина не была первым описанием истории России, до него были труды В. Н. Татищева и М. М. Щербатова. Но именно Карамзин открыл историю России для широкой образованной публики. По словам А. С. Пушкина «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка - Колумбом». Это произведение вызвало также и волну подражаний и противопоставлений (например, «История русского народа» Н. А. Полевого)
В своём труде Карамзин выступал больше как писатель, чем историк - описывая исторические факты, он заботился о красоте языка, менее всего стараясь делать какие-либо выводы из описываемых им событий. Тем не менее высокую научную ценность представляют его комментарии, которые содержат множество выписок из рукописей, большей частью впервые опубликованных Карамзиным. Некоторые из этих рукописей теперь уже не существуют.
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута .
Карамзин выступал с инициативой организации мемориалов и установления памятников выдающимся деятелям отечественной истории, в частности, К. М. Минину и Д. М. Пожарскому на Красной площади (1818).
Н. М. Карамзин открыл «Хождение за три моря» Афанасия Никитина в рукописи XVI века и опубликовал его в 1821 году. Он писал :
«Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века … Оно (путешествие) доказывает, что Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей (en:Jean Chardin), менее просвещённых, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней прежде нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара …»
В 1803 году Н.М. Карамзин - на тот момент один из первых литераторов - решительно оставляет прозу, поэзию, журналистику и записывается в историки. Н.Я. Эйдельман писал по этому поводу: "Бывало, что по своей воле отрекались от престола монархи - принимались сажать капусту, запирались в монастырь. Однако мы не можем припомнить другого примера, чтобы знаменитый художник на высоте славы, силы и успеха подвергал себя добровольному заточению - пусть даже в храме науки, монастыре истории… Карамзин меняет, ломает биографию именно в том возрасте, в каком позже погибает Пушкин…"
Карамзин-историк, по мнению Н.Я. Эйдельмана, начинался в Париже 1790 года, поместив в "Письмах русского путешественника" важнейшее пророчество, обращенное как бы к другим: "Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, т. е. писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон - вот образцы! Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев… У нас был свой Карл Великий - Владимир; свой Людовик XI - царь Иоанн; свой Кромвель - Годунов; и еще такой государь, которому нигде не было подобных - Петр Великий".
Уже в "Бедной Лизе", описывая руины Симонова монастыря, автор вспоминает те времена, "когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ждала помощи в лютых своих бедствиях". Большой успех выпал на долю самого крупного последнего произведения Карамзина - повести "Марфа-посадница, или Покорение Новагорода" (1802), в котором, непосредственно обращаясь к русской истории, писатель создал сильный характер русской женщины, не желавшей покориться деспотизму московского царя Ивана III, уничтожившего вольность Новгорода. Карамзин считал уничтожение новгородской республики исторически неизбежным, но в то же время женщина, готовая умереть за свободу, вызывает у писателя восхищение.
31 октября 1803 года Александр I своим указом назначил Карамзина историографом с жалованием в год по 2000 рублей ассигнациями. Карамзин шел открывать русскую историю. В XVIII в., когда создается новая государственность, у многих современников возникает настойчивое желание написать историю: в петровское время появляется "История России" В.Н. Татищева, в екатерининское - ее собственные "Записки касательно российской истории".
Восемь томов "Истории Государства Российского", охватывающие период с древнейшей истории славян по начальный период правления Ивана IV, вышли в 1818 г. Именно тогда же появляются в печати романы В. Скотта, и в этом совпадении исследователи видят определенную закономерность. Эти сочинения отвечали требованиям времени - отсюда их огромное влияние на современную им литературу и науку.
Как позже писал Пушкин, "появление сей книги наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) - пример единственный в нашей земле".
"Историю" критиковали, специалисты разбирали труд Карамзина в публичных лекциях и письмах, предназначенных для многих. Но основная проблема, по верному замечанию Н.Я. Эйдельмана, заключалась в том, что ученые судили художника и никто не исследовал замысел Карамзина по законам, им самим провозглашенным: "сравнения с другими историками были справедливы, но разбор именно этого историка был явно недостаточен". Была и критика политическая, со стороны "молодых якобинцев", будущих декабристов.
9 том посвящен тирании Иоанна Грозного и увидел свет в 1821 г. Здесь в повествование врываются субъективные моменты отношения Карамзина к эпохе Грозного; историк заострил внимание на моральном падении царя, преступления которого становятся предметом детального описания и рассмотрения. Карамзин хочет понять психологию человека, воздействие окружения, событий на характер самодержца. Метания Ивана IV от молитвы к преступлению, от раскаяния к оргии, от бунта к успокоению и юродству вырисовываются с необыкновенной яркостью под пером художника-беллетриста. Личность Грозного для Карамзина - отрицательный образец, как не следует царствовать, урок всем царям и полезное подспорье просвещенным. "Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели".
10 и 11 тома рассказывали о Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Тема Бориса, самозванцев была созвучна напряженному неустройству, ожиданию 1820-х гг. Николай Языков летом 1823 г. пишет, что с нетерпением ждет карамзинских страниц о самозванце - ибо та эпоха "может дать хорошие матерьялы для романиста исторического". Приближается к истории в это время и Пушкин.
10-й и 11-й тома увидели свет в 1824 году, а смерть Карамзина в 1826 г. оборвала работу над 12-м томом, в центре внимания которого была борьба русского народа под руководством Минина и Пожарского за освобождение государства от польской интервенции. Этот том был издан в начале 1829 года, спустя почти 3 года после смерти историографа.
Карамзин-историк предлагал одновременно два способа познавать прошлое; один - научный, объективный: новые факты, понятия, закономерности; другой - художественный, субъективный. Именно поэтому прав Пушкин с его знаменитой фразой: "Карамзин есть наш первый историк и последний летописец". Пушкинское "последний летописец" означало, что больше летописцев не будет; век другой, взгляд иной: история идет своим путем, художественная литература - своим, изредка пересекаясь, но в общем обособляясь. Лермонтов, Толстой, Булгаков увлечены прошлым, но сочиняют поэмы, повести, романы; Ключевский, Тарле обладают художественным даром, но все-таки прежде всего ученые, избегающие такого совмещения науки и летописи, какое было в "Истории Государства Российского".
44. Шутотрагедия «Подщипа»: литературная пародия и политический памфлет
Всем ходом эволюции творчества Крылова 1780-1790-х гг., систематической дискредитацией высоких идеологических жанров панегирика и торжественной оды была подготовлена его драматическая шутка “Подщипа”, жанр которой Крылов обозначил как “шутотрагедия” и которая по времени своего создания (1800 г.) символически замыкает русскую драматургию и литературу XVIII в. По справедливому замечанию П. Н. Беркова, “Крылов нашел изумительно удачную форму - сочетание принципов народного театра, народных игрищ с формой классической трагедии” . Таким образом, фарсовый комизм народного игрища, традиционно непочтительного по отношению к властям предержащим, оказался способом дискредитации политической проблематики и доктрины идеального монарха, неразрывно ассоциативной в национальном эстетическом сознании жанровой форме трагедии.
Крылов задумал и написал свою пьесу в тот период жизни, когда он практически покинул столичную литературную арену и жил в имении опального князя С. Ф. Голицына в качестве учителя его детей. Таким образом, пьеса была “событием не столько литературным, сколько житейским” . И это низведение словесности в быт предопределило поэтику шутотрагедии.
Прежде всего, густой бытовой колорит заметен в пародийном плане шутотрагедии. Крылов тщательно соблюдает каноническую форму трагедии классицизма - александрийский стих, но в качестве фарсового приема речевого комизма пользуется типично комедийным приемом: имитацией дефекта речи (ср. макаронический язык галломанов в комедиях Сумарокова и Фонвизина) и иностранного акцента (ср. фонвизинского Вральмана в “Недоросле”) в речевых характеристиках князя Слюняя и немца Трумфа.
Конфликт шутотрагедии представляет собой пародийное переосмысление конфликта трагедии Сумарокова “Хорев”. В числе персонажей обеих произведений присутствуют сверженный монарх и его победитель (Завлох и Кий в “Хореве”, царь Вакула и Трумф в “Подщипе”), но только Завлох всячески препятствует взаимной любви своей дочери Оснельды к Хореву, наследнику Кия, а царь Вакула изо всех сил пытается принудить свою дочь Подщипу к браку с Трумфом, чтобы спасти собственную жизнь и жизнь Слюняя. Если Оснельда готова расстаться со своей жизнью и любовью ради жизни и чести Хорева, то Подщипа готова пожертвовать жизнью Слюняя ради своей к нему любви:
Слюняй
Ну, вот тебе юбовь! (Громко). Пьеесная. Увы!
За вейность эдаку мне быть без гоёвы:
Застьеит он меня, отказ его твой взбесит.
Подщипа.
Пусть он тебя убьет, застрелит иль повесит,
Но нежности к тебе не пременит моей.
Слюняй (особо).
Стобы ты тьеснюя и с незностью своей! (II,280).
Как справедливо заметили исследователи театра Крылова, “техника трагического и техника фарсового конфликта в основе своей схожи - обе состоят в максимальном обострении и реализации в действии внутренних драматических противоречий. Но трагический конфликт необходимо связан с победой духа над плотью, а фарсовый - с победой плоти над духом. В шутотрагедии оба плана совмещены: чем выше парит дух, тем комичнее предает его плоть” . Отсюда - типично бытовой, сатирический и фарсовый мотив еды, который сопровождает все действие шутотрагедии последовательными аналогиями духовных терзаний и страстей с процессами поглощения пищи и пищеварения:
Чернавка.
<...> Склонитесь, наконец, меня, княжна, послушать:
Извольте вы хотя телячью ножку скушать.
Подщипа
Чернавка милая! петиту нет совсем;
Ну, что за прибыль есть, коль я без вкусу ем?
Сегодня поутру, и то совсем без смаку,
Насилу съесть могла с сигом я кулебяку.
Ах! в горести моей до пищи ль мне теперь!
Ломает грусть меня, как агнца лютый зверь (II;248).
Слюняй
<...> Я так юбью тебя... ну пусце еденцу (II;248
).
Бедствия, причиненные царству Вакулы нашествием Трумфа, Чернавка описывает так: “Ах! сколько видела тогда я с нами бед! // У нас из-под носу сожрал он наш обед” (II;248); Совет приближенных царя Вакулы, решая вопрос о том, как противостоять войскам Трумфа, “Штоф роспил вейновой, разъел салакуш банку // Да присудил, о царь, о всем цыганку” (II;265); наконец, и избавление царства Вакулы от нашествия Трумфа тоже носит нелепо-шутейный физиологический характер: цыганка подсыпала солдатам Трумфа “пурганцу во щи”, войско занемогло животами и сложило оружие.
Этот пародийный фарсовый комизм столкновения высокой жизни духа идеологизированного трагедийного мирообраза с низменными плотскими мотивами обретает свой формально-содержательный аналог в бурлескном стиле шутотрагедии. В чеканную, каноническую форму афористического александрийского стиха Крылов заключает самые грубые просторечные выражения, чередуя их через стих, то есть рифмуя стих низкого стиля со стихом высокого, или даже разрывая один стих по цезуре на полустишия высокого и низкого слога:
Подщипа.
Как вспомнить я могу без слез его все ласки.
Щипки, пинки, рывки и самые потаски! <...>
Друг без друга, увы! мы в жмурки не играли
И вместе огурцы по огородам крали.
А ныне, ах! за весь его любовный жар
Готовится ему несносный столь удар! (II;249).
<...>О царский сан! ты мне противней горькой редьки
!
Почто, увы! не дочь конюшего я Федьки! (II;251).
Это тотальное бытовое снижение идеологического мирообраза совершенно дискредитирует жанровые константы русской классицистической трагедии, которая как бы застыла в своей жанровой форме со времен Сумарокова и к концу века превратилась в такой же литературный штамп, как традиционная торжественная ода под пером эпигонов Ломоносова. И пародия Крылова по отношению к жанру трагедии приобрела расширительный смысл: так же, как восточная повесть “Каиб” является универсальным сатирическим обзором стершихся, обветшавших, утративших реальную содержательность литературных условностей, шутотрагедия “Трумф” является “насмешкой не над высоким жанром, но над литературой как таковой” . Разумеется, под словом “литература” здесь нужно понимать не русскую изящную словесность вообще, но только ту ее линию, которая к концу XVIII в. утратила свои опоры в идеальной реальности: панегирик, торжественная ода и трагедия - это практически весь высокий иерархический ряд русской литературы XVIII в., объединенный идеологическим пафосом этих жанров в их неразрывной ассоциативности идее просвещенного монарха и идеальной государственности.
Трудно сказать, была ли у Крылова изначальная установка на создание политической памфлетной сатиры, когда он приступал к работе над “Подщипой”, хотя все исследователи, когда-либо обращавшиеся к шутотрагедии Крылова, говорят о том, что образ немчина Трумфа является политической карикатурой на Павла I, фанатически поклонявшегося прусским военным порядкам и императору Фридриху Вильгельму Прусскому. В любом случае, даже если у Крылова не было намерения написать политический памфлет, шутотрагедия “Подщипа” стала им хотя бы по той причине, что Крылов пародически воспользовался устойчивыми признаками жанра трагедии, политического в самой своей основе И высший уровень пародии - смысловой - наносит литературной условности традиционной трагедии окончательный сатирический удар.
Независимо от того каким изображался властитель в трагедиях Сумарокова и драматургов его школы - идеальным монархом или тираном, сам жанр трагедии имел характер “панегирика индивидуальной добродетели”; движущей силой трагедии был “не пафос отрицания, ниспровержения, а пафос утверждения, положительные идеалы” . В этом жанровом контексте и образ злодея-тирана был не более чем способом доказательства теоремы возможности идеального монарха от противного. К концу века идеальная реальность русской философской картины мира потерпела непоправимый ущерб. Великая французская революция принесла с собой крах просветительских иллюзий и ужасное доказательство обыкновенной человеческой смертности монарха казнью Людовика XVI в 1793 г. Авторитету русской самодержавной государственности был нанесен непоправимый удар сатирической публицистикой - бунтом слова накануне Пугачевского бунта, трехлетней гражданской войной, книгой Радищева, который был объявлен Екатериной бунтовщиком страшнее Пугачева, наконец, репрессиями последних лет царствования Екатерины II и несостоявшимися надеждами дворянства на “просвещенного”, воспитанного Н. И. Паниным не без участия Фонвизина императора Павла I.
В результате в шутотрагедии Крылова “Подщипа” образ самодержца удваивается: он предстает в двух как бы традиционных фигурах: узурпатора (немец Трумф) и царя, несправедливо лишенного престола (царь Вакула). Один из них - Трумф, олицетворение военного режима Павла I - властитель послепетровской, якобы просвещенной формации, способен только “палькой на дворца сконяит феселиться” (II;253) и “фелеть на фсех стреляй из пушка” (II;254). Другой - представитель допетровской, якобы исконной национальной генерации властителей, патриархальный царь Вакула - способен только сокрушаться по поводу своего плачевного положения: “Ведь, слышь, сказать - так стыд, а утаить - так грех; // Я царь, и вы, вся знать, - мы курам стали в смех” (II;260). И если в классицистической трагедии деспоту, злодею или тирану-узурпатору противопоставлен или образ идеального монарха, или хотя бы понятие идеальной власти, мыслимое как реально существующее, то в “Подщипе”, равным этическим достоинством (недостойностью) двух вариаций на тему самодержавной власти, дискредитирован принцип самодержавия как таковой В своей последовательной ревизии высоких жанров, связанных с проблематикой власти, Крылов доходит до логического предела литературной пародии и литературной сатиры с уровня отрицания отдельного конкретного проявления порока, не отвергающего идею, он переходит к отрицанию идеи через се конкретные воплощения в отдельных порочных персонажах.
В этом смысле универсальный отрицатель Крылов в том периоде своего творчества, который ограничен хронологическими рамками XVIII в, поистине может быть назван замыкающей фигурой русской литературы XVIII в. Именно в его сатире - от сатирической публицистики и ложного панегирика до восточной повести и шутотрагедии “Подщипа” русское Просвещение XVIII в. смеясь рассталось со своим прошлым: представлениями о возможности практического осуществления идеала просвещенного монарха в материальном бытии русской государственности. Тот идеологический комплекс, который представал великим в высоких жанрах начала века - панегирике, торжественной оде, трагедии - в крыловских пародиях предстал смешным, и на этом замкнулся полный цикл его развития, возможный в рамках одной историко-литературной эпохи.
Позицию замыкающей русский историко-литературный процесс XVIII в. фигуры с Крыловым делит его старший современник А. Н. Радищев: с одной стороны, его творчество является кульминационным воплощением самого типа эстетического мышления XVIII в., а с другой - обращено в ближайшую литературную перспективу своими сентименталистскими основами, воплотившимися более на идеологическом и жанровом уровнях, нежели на уровне поэтики.
Николай Карамзин
В 1789-1790 годах Н. М. Карамзин совершил давно планируемое путешествие в Европу. Его маршрут, разработанный заранее, включал Курляндию, Германию, Швейцарию, Францию, Англию. Позднее в своей пространной статье «Письмо в "Зритель" о русской литературе» он напишет: «Молодой человек, жадный до созер-цания природы там, где она имеет вид более весёлый и более величественный, чем в нашем отечестве, и в особенности жаждущий увидать великих писателей, творения которых развили первые способности его души: он вырвался из объятий своих друзей и отправился в путь -один со своим чувствительным сердцем. Всё возбуждало его любопытство: достоприме-чательности городов, оттенки, отличающие манеру жизни их обитателей, памятники, на-поминавшие ему какие-либо исторические со-бытия, какие-либо славные происшествия, следы великих людей, уже усопших, приятные ландшафты, зрелище плодородных полей и вид огромного моря. Порой он посещает ста-рый замок, покинутый и в развалинах, чтобы там помечтать в своё удовольствие, теряясь мечтами во тьме прошедших времён; порой он является на пороге знаменитого автора, не имея другой рекомендации, кроме своего вос-торга перед его творением».
Путешественник был молод, и его стремле-ние своими глазами увидеть чужие края, при-общиться к европейской умственной жизни, послушать в личной беседе или на публичных лекциях знаменитых учёных, писателей и фило-софов вполне обычно для русского дворянина конца XVIII века, знакомством с Европой завер-шавшего своё образование. Но у Карамзина могли быть и другие причины «неожиданного», в гла-зах близких друзей, отъезда из Москвы. Ещё при жизни писателя бытовало мнение, что поездку за границу он совершил по заданию своих нас-тавников-масонов. Одновременно получила рас-пространение и противоположная точка зрения: продолжительное путешествие явилось заклю-чительным эпизодом разрыва с московскими «мартинистами».
Творческая история «Писем русского путеше-ственника» также загадочна. Поскольку рукопи-сей этого произведения не сохранилось, исто-рики литературы высказывали разные пред-положения относительно его первоисточника. По мнению одних исследователей, оно создава-лось на основе реальной переписки с друзьями, которую автор вёл во время своего путешествия и которая не дошла до наших дней. По другой, более убедительной версии, источником «Писем» был утраченный путевой дневник, куда Н. М. Карам-зин по свежим следам заносил свои впечатления и размышления. Во всяком случае, если во время путешествия и делались предварительные записи, то они послужили лишь исходным материалом для литературного произведения, каковым явля-ются «Письма русского путешественника». Сво-бодная форма «писем к друзьям», чрезвычайно распространённая в XVIII веке, позволяла объе-динять в одно целое и описание достопримеча-тельностей, и размышления на литературные, философские, политические темы, и прямые цитаты из близких автору сочинений. Один из примеров - посещение автором «Писем...» знаме-нитого «Вольтерова замка»: «Кто, будучи в Женев-ской Республике, не почтёт за приятную долж-ность быть в Фернее, где жил славнейший из Писателей нашего века? Я ходил туда пешком с одним молодым Немцом. Бывший Вольтеров замок построен на возвышенном месте, в неко-тором расстоянии от деревни Ферней, откуда идёт к нему прекрасная аллея. Перед домом, на левой стороне, увидели мы маленькую цер-ковь, с надписью: "Вольтер Богу". - "Вольтер был один из ревностных почитателей Боже-ства (говорит Лагарп в похвальном Слове Фернейскому мудрецу). Si Dieu n"exitait pas, il faudrait l"inventer (если бы не существовал Бог, то над-лежало бы Его выдумать), - сей прекрасный стих написан им в старости и показывает его Философию"».
Среди творений Карамзина «Письма.» зани-мают важнейшее место. Это произведение, вскоре после своего появления переведённое на не-мецкий язык, открыло для русских и европей-ских читателей Карамзина - писателя. Это было блистательное начало его творческого пути, завершившегося «Историей Государства Российского».
При жизни Карамзина «Письма русского путе-шественника» печатались семь раз. Сначала главы из «Писем...» появились в «Московском журнале», издававшемся Карамзиным в 1791-1792 годах и его альманахе «Аглая» (1794-1795). Первое отдель-ное издание в шести томах вышло в 1797-1801 годах в двух вариантах, различавшихся на-бором, оформлением и небольшими исправле-ниями в тексте. На титульных листах обоих вариантов стоят одинаковые даты выхода книг. На самом деле, как думают исследователи и биб-лиографы, первые пять томов первого издания были перепечатаны с незначительными изме-нениями в 1801 году. Шестой том выходил только один раз. В Библиохронике представлен второй вариант первого издания с нумерацией стра-ниц не в правом верхнем углу, а над серединой полосы набора
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826)
Письма русского путешественника. Ч. 1-6. М., Университетская типография, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1797-1801. 12. Ч. 1. 1797. , VII, 294, с. Ч. 2. 1797. , 309, c. Ч. 3. 1797. , 299, с. Ч. 4. 1797. 309, с. Ч.5. 1801. , 432, с. Ч. 6. 1801. 389 с. Ч. 6. 1801. , 389 с. 8,2х14 см.
«Ах, мой друг! Жалей о несчастном! Простуда, кашель, боль в груди едва ли позволяют мне за перо взяться; но я непременно должен известить тебя о моем меланхолическом приключении. Ты помнишь молодую ивердонскую красавицу, с которою мы ужинали в Базеле, в трактире „Аиста“; помнишь, может быть, и то, что я сидел рядом с нею, что она говорила со мною ласково и смотрела на меня с нежностию, – ах! Какая гранитная гора могла защитить мое сердце от ее пронзительных взоров? Какие снежные громады могли погасить огонь, воспаленный сими взорами в источнике жизни моей? Так, мой друг! Я учился анатомии, медицине и знаю, что сердце есть точно источник жизни, хотя почтенный доктор Мегадидактос вместе с уважения достойным Микрологосом искал души и жизненного начала в чудесном, от глаз наших укрывающемся, сплетении нерв… Но я боюсь удалиться от моего предмета и потому, оставляя на сей раз почтенного Мегадидактоса и уважения достойного Микрологоса, скажу тебе откровенно, что ивердонская красавица возбудила во мне такие чувства, которых теперь описать не умею. Не знаю, что бы из меня вышло и что бы я сделал, если бы она – о жестокий удар! – не уехала из трактира в самую ту ночь, в которую душа моя занималась ею с величайшим жаром и в которую утешительный сон не смыкал глаз моих. Ты вывез меня из Базеля; путешествие, приятные места, встреча с француженкою, маленький Пьер, белка, злая белка , новые знакомства, водопады, горы, девица Г* – все сие не могло совершенно затереть образа прекрасной ивердонки в сердце моем. Долго старался я преодолевать себя; но тщетно! Быстрая река рано или поздно разрывает все оплоты: так и любовь! Наняв в Лозанне лошадь, поехал я верхом в Ивердон; скакал, летел и в десять часов утра был уже на месте – остановился в трактире, напудрился, снял с себя кортик, шпоры и пошел, куда стремилось мое сердце. Там с пасмурным видом встретил меня шестидесятилетний старик, отец моей красавицы. „Милостивый государь! – сказал я. – Почтение, которым душа моя преисполнена к вашей любезной дочери; великое, сильное желание видеть ее…“ – В самую сию минуту она вошла. „Юлия! Знаешь ли ты этого господина?“ – спросил у нее старик. Юлия посмотрела на меня и учтивым образом отвечала, что она не имеет сей чести. Вообрази мое удивление! Я весь затрепетал – затрепетал вслух, как говорит Клопшток. Мне казалось, что все швейцарские и савойские горы обрушились на мою голову. Насилу мог я собраться с духом и, не говоря ли слова, подал беспамятной Юлии записную книжку мою, где увидела она имя свое, ее собственною рукою написанное . Краска выступила на лице жестокой; она стала передо мною извиняться и сказала отцу: „Я имела честь вместе с ним ужинать в Базеле“. Он просил меня сесть. Кровь моя все еще не могла успокоиться, и я не имел духа смотреть на Юлию, которая также была в замешательстве. Старик, услышав от меня, что я доктор медицины, очень обрадовался и начал говорить со мною о своих болезнях. „Увы! – думал я, – за тем ли судьба привела меня в Ивердон, чтобы рассуждать о геморроидальных припадках дряхлого старика?“ Между тем дочь его сидела, нюхала табак и взглядывала на меня, но совсем уже не так, как в Базеле. Взоры ее были так холодны, так холодны, как Северный полюс. Наконец самолюбие мое, жестоко уязвленное, заставило меня встать со стула и откланяться. „Долго ли вы пробудете в Ивердоне?“ – спросила Юлия приятным своим голосом (и с такою усмешкою, которая весьма ясно говорила: „Надеюсь, что ты уже не придешь к нам в другой раз“). – „Несколько часов“, – отвечал я. – „В таком случае желаю вам счастливого пути“. – „И счастливой практики“, – примолвил старик, сняв свой колпак. Мы расстались, и, когда я вышел на улицу, наемный слуга, провожатый мой, сказал мне, что девица Юлия скоро выйдет замуж за г. NN. „А! Теперь знаю причину холодного приема!“ – думал я и удвоил шаги свои, чтобы скорее удалиться от дому будущей супруги г. NN. – Город Ивердон стал мне противен. Я с великим нетерпением дожидался обеда и, сев за стол, велел слуге оседлать мою лошадь. Вместе со мною обедало четверо англичан, которые вздумали пить мое здоровье всеми винами, какие были у трактирщика. Я сам велел подать бутылки две бургонского, чтобы отблагодарить их, – и таким образом прошло неприметно около трех часов. Сердце мое забыло все земное горе и простило неверную Юлию. Англичане, по своему обыкновению, выдумывали разные сентиментальные, или чувствительные, здоровья . Мне также, в свою очередь, надлежало предложить три или четыре. При последнем я налил полную рюмку, поднял ее высоко и сказал громко: „Кто любит красоту и нежность, тот пей со мною за здоровье Юлии и желай красавице счастливого супружества!“ Рюмки застучали, вино запенилось, и все англичане в один голос воскликнули: „Мы пьем за здоровье Юлии и желаем красавице счастливого супружества!“ – Между тем я раз десять спрашивал, готова ли моя лошадь, и десять раз отвечали мне, что она давно стоит у крыльца. Наконец слуга пришел сказать, что мне нельзя ехать. – „Нельзя? Для чего же?“ – „Становится поздно, и находят облака“. – „Вздор! Я поеду! Лошадь!“ – Через полчаса опять пришел слуга. „Вам нельзя ехать“. – „Нельзя? Для чего же?“ – „Стало поздно; облака сгустились, и пошел снег“. – „Вздор! Я поеду! Лошадь!“ – Через несколько минут слуга опять подошел ко мне. „Вам нельзя ехать!“ – „Нельзя? Для чего же?“ – „Ночь на дворе; снег валится хлопками, и скоро сильный ветер надует везде сугробы“. – „Вздор! Поеду, сию минуту поеду! Лошадь!“ – Сказал, встал со стула, пожал у англичан руки, подпоясал кортик, расплатился с хозяином, вскочил на коня своего и пустился во всю прыть по Лозаннской дороге. Ветер со снегом дул мне в лицо, но я протирал глаза и беспрестанно шпорил свою лошадь. Скоро сделалась страшная вьюга, и белая тьма совсем лишила меня зрения. Я чувствовал, что еду не по дороге, но делать было нечего. Вперед, вперед, на волю божию – и таким образом странствовал до половины ночи. Наконец добрый копь, верный товарищ мой, совсем из сил выбился и стал. Я сошел с него и повел его за узду, но скоро и мои силы истощились. Уже несчастный приятель твой готов был упасть на пушистую снежную постелю, покрыться снежным одеялом и поручить участь свою богу; хладная смерть со всеми своими ужасами вилась надо мною! Увы! Я прощался уже с моим отечеством, с друзьями, с химическими лекциями и со всеми моими лестными надеждами! Но судьба изрекла мне помилование, и вдруг увидел я перед собою крестьянский домик. Ты легко можешь представить себе радость мою, и для того не буду ее описывать. Довольно, что меня там приняли, отогрели, накормили, успокоили. На другой день поутру я принудил хозяина взять у меня шесть франков и в десять часов утра возвратился в Лозанну – с жестокою простудою. Вот конец моего романа! Vale! В. – P. S. Как скоро уймется мой кашель, возвращусь на старое свое жилище, в Женевскую республику, под надежный покров великолепных синдиков . У вас, сказывают, много шуму!»
Сентиментализм Карамзина проявляется впервые в «Письмах русского путешественника », которые определенно написаны под влиянием английского литератора Стерна . «Стерн несравненный, – пишет Карамзин в одном из своих писем, – в каком университете научился ты столь нежно чувствовать?». Чувствительность, культ природы, некоторая идеализация жизни, все это было тогда совершенно ново в русской литературе; надо сказать, что настроение сентиментализма подходило душевному складу Карамзина, – недаром он сам называет «Письма русского путешественника» (см. также их анализ) – «зеркалом души» своей.
Николай Михайлович Карамзин. Портрет кисти Тропинина
Впервые «Письма русского путешественника» были напечатаны в «Московском журнале», потом были изданы отдельной книжкой. Письма эти составлены по путевым запискам автора.
В каждой стране, в каждом городе, через который он проезжал, Карамзин обращал внимание, главным образом, на интеллектуальные достопримечательности литературы, науки и искусства; – много места отведено описанию красот природы, характеру и нравам жителей, а также собственным размышлениям, вызванным новыми впечатлениями. Часто описания и размышления эти написаны в таких сентиментальных выражениях, что кажутся нам смешными; но надо помнить, в какую эпоху они написаны, помнить, что это были первые шаги в новом литературном направлении, сменившем школу ложного классицизма.
Карамзин. Письма русского путешественника. Радиоспектакль
Карамзин начал свое путешествие с Германии. В Кенигсберге, он посетил знаменитого философа Канта и долго беседовал с ним на самые возвышенные философские, религиозные темы. Приводя некоторые слова и мнения Канта, Карамзин восклицает: «почтенный муж! прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои!».
Приехав в Веймар, Карамзин первым долгом осведомился: «здесь ли Виланд ? Здесь ли Гердер ? Здесь ли Гёте ?» – Но Гёте ему не удалось повидать. Поэт Виланд сперва как-то неохотно и недоверчиво принял незнакомого ему русского писателя в первое его посещение, но Карамзин сумел победить эту недоверчивость и очаровать немецкого поэта своей горячей искренностью.
«Я пришел к Виланду в назначенное время. Маленькие, прекрасные дети его окружили меня на крыльце. Батюшка вас дожидается, сказал один. Подите к нему, сказали двое вместе. Мы вас проводим, сказал четвертый. Я их вместе перецеловал и пошел к их батюшке.
«Простите, – сказал, вошедши, – если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостью того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями». «Вы не имеете нужды извиняться, – отвечал он, – я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает». Тут сели мы на канапе. Начался разговор, который минута от минуты становился для меня занимательнее».
Прощаясь с Карамзиным, Виланд обнял и поцеловал его.
В Дрездене Карамзин с восторгом и восхищением описывает красоту Эльбы, вида, открывающегося из городского парка на поля и дали, освещенные вечерним солнцем: «Я смотрел и наслаждался, – пишет он, – смотрел, радовался и – даже плакал: что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень, очень весело! Вынул бумагу, карандаш, написал: любезная природа! и больше ни слова!..».
Теперь такая чувствительность нам смешна, но Карамзин был вполне искренен; красота природы отражалась в его душе. В другом месте он пишет: «Как ясно было небо, так ясна была душа моя».
В письмах из Швейцарии это сентиментальное выражение культа природы достигает высшей точки: «Уже я наслаждаюсь Швейцарией, милые друзья», – пишет Карамзин. В одном особенно красивом месте дороги, недалеко от Базеля, он попросил остановить лошадей: – «я выскочил из кареты, упал на цветущий берег Рейна, и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцарцы! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной Натуры?».
Сентиментальному писателю кажется, что люди, живущие в прекрасной рамке природы, и сами должны быть прекрасны. Еще в Германии он признается в этом: «молодая крестьянка с посошком была для меня Аркадскою пастушкой». Здесь же в Швейцарии, ему хотелось бы самому стать «пастушком». Разговаривая с двумя молодыми крестьянками где-то на альпийских лугах, он высказал им свое желание разделить их простую жизнь, близкую к природе, «вместе с ними доить коров». Швейцарские пастушки весело рассмеялись в ответ на его слова.
Во Францию Карамзин попал как раз, когда разгоралась революция . Но в своих письмах он почти не говорит о политических событиях. Бунт, злоба и насилие, всегда связанные с революцией, были чужды его душе и возмущали ее. Во Франции, как и в других странах, он интересовался историческими памятниками, интересовался французской культурой. Несколько теплых слов он посвящает памяти Жан Жака Руссо , которого очень высоко ценит и который оказал такое большое влияние на образ мыслей самого Карамзина.
В одном письме Карамзин говорит о характере французов: «скажу – огонь, воздух, – и характер французов описан. Я не знаю народа умнее, пламеннее, ветреннее...» Ему нравится во французах их любезность, порывистость, способность увлекаться. Но больше всего Карамзин оценил во Франции театр: «Характер французов, пишет он, выражается главным образом в их любви к театру. Немца надо изучать в его ученом кабинете, англичанина на бирже, француза в театре».
Карамзин часто посещал театры, видел множество французских пьес и выше всего ценит французскую комедию, которую он считает бесподобной; но трагедии французские ему не очень понравились, он критикует игру французских трагических актеров и, конечно, ставит шекспировские трагедии несравненно выше. О Шекспире Карамзин говорит в одном письме из Англии: «В драматической поэзии англичане не имеют ничего превосходного, кроме творений одного автора; но этот автор – Шекспир, и англичане богаты!»
Как уже было сказано, увлечение Шекспиром было характерной чертой XVIII-го века и явилось протестом против французской рационалистической философии . – «Легко смеяться над ним (Шекспиром), – продолжает Карамзин, – не только с Вольтеровым , но и с самым обыкновенным умом; кто же не чувствует красоты его, с тем я не хочу говорить и спорить. Забавные шекспировские критики похожи на дерзких мальчишек, которые окружают на улице странно одетого человека и кричат: какой смешной, какой чудак. Величие, истина характеров, занимательность приключений, откровение человеческого сердца и великие мысли, рассеянные в драмах британского гения, будут всегда их магией для людей с чувством. Я не знаю другого поэта, который имел бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображение».
– «О, Шекспир, Шекспир! – пишет Карамзин в другом письме. – Кто знал так хорошо сердце человеческое, как ты! Кто убедительнее твоего представил все безумство злословия!»
Шекспир вызывает у Карамзина подлинное восхищение.
Сравнивая Лондон с Парижем, Карамзин говорит: «Лондон прекрасен! Какая разница с Парижем! Там огромность и гадость (намек на грязь Парижских улиц), здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противуположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в разодранных рубищах; здесь из маленьких кирпичных домиков выходят Здоровье и Довольствие с благородным и спокойным видом». Но в общем чувствуется ясно в письмах из Англии, что французы симпатичнее Карамзину, чем англичане. Он ценит просвещенность англичан, ценит многое в их государственном устройстве, – особенно законодательство, но остается холоден. Говоря о характере англичан, Карамзин объясняет их холодность и склонность к «сплину» – дурным английским климатом, туманом, серым небом и... чрезмерной любовью к комфорту. Как истинно русский человек он тяготился некоторой сухостью и холодностью англичан, но это не мешает ему отдавать полную справедливость их просвещенности.
Во всех письмах Карамзина яркой нитью проходит его любовь к родине, ко всему русскому. Искренне восхищаясь всем, что он видит за границей, он ни на минуту не забывает России, и потому особенно восторженно звучит его последнее письмо из Кронштадта на обратном пути: «Берег! отечество! Благословляю вас! Я в России, и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать Русских людей».
Для современников «Письма русского путешественника» были интересны тем, что знакомили читателей с Европой.
Сказано в Московском университете 1 декабря 1866 года на столетнем юбилее со дня рождения Карамзина
Первый столетний юбилей нашего великого прозаика имеет свое особенное значение. Торжество это не может быть только воспоминанием о важном литературном деле, положенном в основу русской народности; потому что дело это - не отшедшая старина, вообще дорогая для национального чувства, но один из насущных элементов современного русского просвещения, который не перестал еще оказывать свою живительную силу в каждом из нас, здесь собравшихся. Поколения старшие еще чувствуют на себе всю обаятельную свежесть непосредственного действия этой гармонии мыслей и звуков, которою Карамзин на их памяти пленял своих соотечественников; поколения младшие учились и теперь еще учатся мыслить и выражать свои мысли по его сочинениям, на которых и доселе основываются и русский синтаксис, и русская стилистика: так что - если бы я думал изложить перед вами заслуги Карамзина в этом отношении, то мне пришлось бы сделать перечень параграфов учебника с указанием, насколько каждый из них подчинен влиянию Карамзина.
Но я нахожу неуместным подробностями критических исследований о языке и слоге удалить от вашего внимания живой образ того, память о котором мы празднуем. Лучше всего удовлетворило бы общему желанию жизнеописание Карамзина с подробными выдержками из его сочинений, но этот предмет не вместим в пределах моего настоящего чтения. Ограничиваясь немногим, я избираю из жизни Карамзина только полтора года, - знаменательное время перехода от молодости к зрелому возрасту, когда определилась нравственная и литературная физиономия писателя, именно 1789 - 1790 годы, описанные им самим в "Письмах русского путешественника".
Опасаясь умалить заслуги автора, ныне чествуемого, я не решаюсь назвать эти Письма лучшим из его собственно литературных произведений, однако, кажется, не обинуясь, могу утверждать, что, после "Истории государства Российского", они более прочих его сочинений оказали свое действие на образование русской публики, оказывают и теперь, составляя одно из лучших украшений всякой хрестоматии русской словесности.
Своими письмами из-за границы Карамзин впервые внес в нашу литературу самые обстоятельные сведения о европейской цивилизации, которые были тем наставительнее, что относились к последним годам прошлого столетия, когда господство французского направления стало уступать новым идеям, продолжившим свое развитие и в первой половине текущего столетия; так что "Письма русского путешественника" даже в период деятельности Пушкина не теряли своего современного значения, частию имеют они его и теперь, потому что в них впервые были высказаны многие понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время достоянием всякого образованного человека.
Необычайная цивилизующая сила этих писем, кроме высокого дарования и обширных сведений автора, много зависела от самой формы этого рода сочинений. Вместо систематических трактатов об истории и статистике западных народов, об их литературе, искусстве и науке перед читателями постоянно является симпатическая личность русского человека, высокообразованного, насколько это было возможно в конце прошлого столетия, и в высшей степени впечатлительного и даровитого, который с каждым шагом на своем пути созревает, неутомимо учится и из книг, и из бесед со знаменитостями того времени, и по мере успехов передает плоды своего развития своим немногим друзьям, круг которых должен был расшириться на всю читающую русскую публику, как скоро были изданы в свете "Письма русского путешественника"; и многочисленные читатели их по всем концам нашего отечества нечувствительно воспитывались в идеях европейской цивилизации, как бы созревали сами вместе с созреванием молодого русского путешественника, учась смотреть на образование его глазами, чувствовать его благородными чувствами, мечтать его прекрасными мечтами.
Если русская литература, со времен Петра Великого, довершая дело преобразования, имела своею задачею внести к нам плоды западного просвещения, то Карамзин блистательно исполнил свое назначение. Он воспитал в себе человека, чтобы потом, с полным сознанием, явить в себе русского патриота. Любовь к человечеству была для него основою разумной любви к родине, и западное просвещение было ему дорого потому, что он чувствовал в себе силу водворить его в своем отечестве.
Стремясь на запад учиться для блага своего отечества, он шел по пути, проложенному Петром Великим и Ломоносовым, и, в свою очередь, дал собою образец поколениям новейшим, оставив им из своего опыта такое завещание: "Нигде способы учения не доведены до такого совершенства, как ныне в Германии: и кого Платнер, кого Гейне не заставит полюбить науки, тот, конечно, не имеет уже в себе никакой способности".
Представители нации всегда имеют в себе нечто типическое, образцовое: как идеал господствуют они в умах своих соотечественников, направляя их мысли и действия.
Полагая своею задачей - возобновить в вашем воображении, мм. гг., память о Карамзине по его путевым запискам, я буду сколько возможно ближе держаться данных, сообщенных о себе им самим, и ограничу свое дело только приведением этих данных в немногие группы, оставаясь в полной уверенности, что приводимые мною слова самого Карамзина будут лучшим украшением чтения, назначаемого для торжественного о нем воспоминания.
Прежде всего поражает в "Письмах русского путешественника" многосторонняя и основательная образованность, которую могла дать ему Россия в конце прошлого столетия и в которой он нашел достаточное приготовление, чтобы не только вести полезную для себя беседу с такими европейскими знаменитостями, как Виланд, Гердер, Лафатер, Кант, Боннет, но и внушить им уважение к нему.
В этих же письмах из-за границы Карамзин сообщает много подробностей о годах своего раннего учения, подробностей, которыми не раз пользовались его биографы.
Имя Парижа стало Карамзину известно почти вместе с его собственным именем: так много читал он об этом городе в романах, так много слышал от путешественников; по романам же и газетным статьям еще в ранней молодости восхищался англичанами и воображал Англию самою приятнейшею для своего сердца землею. Видеть Париж и Лондон -всегда было его мечтою, и некогда сам он собирался писать роман и в воображении объездить те самые земли, в которые после поехал. Потом детские мечты заменились основательным желанием: он хотел провести свою юность в Лейпциге: туда стремились его мысли, в тамошнем университете хотел он собрать нужное для искания той истины, о которой - по его собственному выражению - с самых младенческих лет тоскует его сердце.
Разделяя вкусы своих современников, он коротко был знаком с французскими писателями XVIII столетия и поклонялся Жан-Жаку Руссо, но вместе с тем уже с ранних лет привык он уважать и литературу немецкую, и английскую: так что, когда в чужих краях ему случилось предстать перед знаменитыми личностями того времени и видеть знаменитые предметы, он не только не поражался новизною, но как давно знакомое и любимое соединял виденное и слышанное со своими воспоминаниями. В Лондоне осматривает он картины с сюжетами из Шекспировых драм и, уже зная твердо Шекспира, почти не имеет нужды справляться с описанием в каталоге, и, смотря на картины, угадывает содержание. В Лозанне, в одном саду, видит надпись, взятую из Аддиссоновой оды, и при этом воспоминает, как некогда просидел он целую летнюю ночь за переводом той самой оды и как восходящее солнце осветило его тогда за такою работой. "Это утро, - присовокупляет молодой путешественник, - было одно из лучших в моей жизни". В Лейпциге он знакомится с известным в то время литератором Вейсе, статьи которого из "Друга детей" он уже переводил прежде. В Цюрихе отыскивает архидиакона Тоблера, имя которого ему хорошо было знакомо по переводу Томсоновых "Времен года", изданных Геснером. В том же городе является к Лафатеру, с которым он был в переписке еще в Москве и который принимает его как старого друга. В Париже нисколько не удивляет его французский театр, потому что, как он по этому предмету выразился: "Я и теперь не переменил мнения своего о французской Мельпомене: она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза Шекспирова и некоторых (правда немногих) немцев".
Самый план молодого русского путешественника во всех городах Европы лично знакомиться с знаменитыми литераторами того времени был столько же результатом его обширной образованности, сколько и поверкою ее, строгим испытанием. "Ваши сочинения заставили меня любить вас, - говорит он Виланду в Веймаре, - и возбудили во мне желание узнать автора лично". "Вы видите перед собою такого человека, - так он представился в Женеве Боннету, автору "Палингенезии", - который с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения и который любит и почитает вас сердечно". И везде был радушно встречаем молодой русский путещественник, везде был приветствуем не только как человек просвещенный, но и как достойный представитель своих соотечественников. "Я русский, - говорил он Бартелеми в Парижской академии надписей, - читал Анахарсиса; умею восхищаться творениям великих, бессмертных талантов. Итак, хотя в нескладных словах, примите жертву моего глубокого почтения. Он встал с кресел, - продолжает Карамзин, - взял мою руку, ласковым взором предуведомил меня о своем благорасположении и наконец отвечал: "Я рад вашему знакомству, люблю север, и герой, мною избранный, вам не чужой". Мне хотелось бы иметь с ним какое-нибудь сходство. Я в академии: Платон передо мною, но имя мое не так известно, как имя Анахарсиса". "Вы молоды, путешествуете и, конечно, для того, чтобы украсить ваш разум познаниями, довольно сходства".
Заинтересованный Россиею и ее литературой, Лафатер предлагал Карамзину, чтоб он выдал на русском языке извлечение из его сочинений. "Когда вы возвратитесь в Москву, -сказал он Карамзину, - я буду пересылать к вам через почту рукописный оригинал", а когда наш путешественник оставил Цюрих, автор "Физиономики" снабдил его одиннадцатью рекомендательными письмами в разные города Швейцарии и уверил его в неизменности своего дружелюбного к нему расположения. В Женеве Карамзин сообщил свое желание Боннету тоже перевести на русский язык его "Созерцание природы и Палингенезию", и в письме от него получил такой ответ: "Автор будет вам весьма благодарен за то, что вы познакомите с его сочинениями такую нацию, которую он уважает", а когда после того Карамзин пришел к нему: "Вы решились переводить "Созерцание природы", - сказал он. - Начните же переводить его в глазах автора, и на том столе, на котором оно было сочиняемо. Вот книга, бумага, чернилица, перо". Даже сам Виланд, который сначала принял Карамзина холодно и надменно, потом до того с ним сблизился, что на расставании просил его, чтоб он хотя изредка писал к нему письма: "Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были". В Кенигсберге Карамзин беседует с великим Кантом о будущей жизни и удивляется обширным историческим и географическим познаниям философа; в Лейпциге для изучения эстетики входит в личные сношения с профессором Платнером; в Веймаре беседует с Гердером об античной литературе и искусстве, и о Гёте; в Лионе сводит дружбу с Маттисоном, известным того времени немецким поэтом.
Русский путешественник отправился на запад с определенною целью - довершить свое образование в так называемых изящных науках, которым он, по его собственному признанию в Лейпциге профессору Платнеру, себя посвящает; то есть, с точки зрения литературы и искусства, Карамзин интересовался вообще европейскою цивилизацией.
Как ни обширен был круг литературного образования Карамзина, все же сосредоточивался он на Франции. В то время Баттё и Лагарп были для всех наставниками в литературе; Вольтер и Жан-Жак Руссо еще господствовали над умами, хотя и небезусловно. Русский путешественник слышал о французских классиках уже неблагоприятные отзывы в самом Париже, слышал, как любимый им философ Боннет называл Жан-Жака только ритором, а его философию воздушным замком; и однако, сила времени и привычки так велика, что Вольтер и Руссо были главными руководителями его убеждений.
С благоговейным вниманием ученого археолога, посещающего римские развалины, русский путешественник посещал и исследовал места, где жили и откуда поучали своими творениями весь свет эти два знаменитые французские писателя.
Не увлекаясь крайностями в учении Вольтера, Карамзин отдает ему справедливость в том, "что он (слова Карамзина) распространил сию взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие", которое наш путешественник видит в католических монастырях, называя их жилищем фанатизма, наполненным страшилами, основанным учредителями, которые худо знали нравственность человека, образованную для деятельности; издевается над католическими реликвиями и над иконами Богородицы, изображающими портреты известных прелестниц. Согласно с этими воззрениями, он вообще не любит средних веков и готического стиля, хотя и признает в нем смелость, но видит в нем бедность разума человеческого; в барельефах Страсбургского собора замечает только странное и смешное, а мысль и работу барельефов Дагоберовой гробницы с изображениями известной легенды о борьбе Св. Дионисия с дьяволами за душу Дагобера признает достойными варварских времен, какими он полагает средние века. С тем же изысканным вкусом француза XVIII века относится он к старинной литературе. Мистерии и народные драмы для него - глупые пьесы; Чосер - писал неблагопристойные сказки; Рабле - автор романов, "наполненных остроумными замыслами, гадкими описаниями, темными аллегориями и нелепостью"; даже Эразмова "Похвала Глупости", по Карамзину - Дурачеству, несмотря на некоторое остроумие, книга довольно скучная для тех, "которые уже читали сочинения Вольтеров и Виландов осьмого-надесять столетия".
И вместе с тем Карамзин находил вполне согласным со своею теорией вкуса любоваться холодными аллегорическими изображениями Натуры и Поэзии, которые льют слезы на надгробную урну Геснера, или Бессмертия, Храбрости и Мудрости на монументе Тюреня, а чудом искусства признавал Магдалину Лебрюна, потому что в ее виде художник изобразил Герцогиню Лавальер. Таково еще было обаяние этой крайне условной, но обольстительной для глаз роскоши изнеженного искусства, что самым удобным находили тогда переводить свои ощущения на язык античной мифологии. В Булонской вилле графа д"Артуа на картинах улыбалась Карамзину сама любовь, а в альковах мечтались аллегорические восторги; на развалинах рыцарских замков воображалась ему сидящею богиня меланхолии, и в безмолвной роще, не шутя, взывал он к античному Сильвану.
Однако как человек нового направления русский путешественник уже не вполне довольствовался ложным классицизмом, предпочитал античную скульптуру французской и с Павзанием в руках решался находить недостатки в произведениях Пигаля. Он уже знал и из бесед с Гердером убедился, что немцы лучше других народов понимают классическую древность: "и потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне (это слова Карамзина) немцы свою литературу. Гомер у них Гомер: та же неискусственная благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим баранам".
Еще сильнее заметно освобождение Карамзина из-под французского влияния в его суждениях о поэзии драматической, которыми он был обязан изучению Шекспира и немецких писателей. К концу прошлого столетия великий британский драматург был оценен по достоинству, произведения его игрались на театрах в Англии, Германии, и даже, в плохих переделках, во Франции, в Лондоне была основана Шекспирова галерея, составленная из картин, сюжеты которых взяты из драм Шекспира. В какой город Германии Карамзин ни приезжал, везде мог видеть на сцене произведения новой немецкой драмы, столько отличные от классической французской. В Берлине при нем играли драму Коцебу "Ненависть к людям и раскаяние" и Шиллерову трагедию "Дон-Карлос". Я не буду приводить восторженных похвал Карамзина Шекспиру, столько известных и в настоящее время вполне оправданных; но для характеристики тонкого эстетического вкуса нашего путешественника не могу миновать следующий его отзыв: "Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести, но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо, или так, чтобы меня тронуть".
Воззрения, противоположные ложному классицизму XVIII столетия и более согласные со вкусом нашего времени, у Карамзина имели характер еще односторонний, будучи приведены в одну систему с господствовавшею тогда теорией Жан-Жака Руссо о неограниченных правах природы над человеком. Всякая цивилизация, а следовательно и античная, должна уступать этим всемогущим правам: и Карамзин в характеристике произведений Рафаэля, Джулио Романо, Рубенса и других живописцев, отдавая предпочтение тем из них, которые более следовали природе, нежели антикам, не только говорит правду вообще, но и, в частности, как человек своего времени, мирит свой вкус с теорией Руссо.
Этою же теорией оправдывался в живописи господствовавший тогда ландшафт, а в литературе - описательная, или, как называет ее Карамзин, живописная поэзия, отечеством которой он полагает Англию: "Французы и немцы, - говорит он, - переняли сей род у англичан, которые умеют замечать самые мелкие черты в природе. По сие время ничто еще не может сравняться с Томсоновыми "Временами года": их можно назвать зеркалом натуры". Эта поэзия, объясняемая философиею Жан-Жака Руссо, давала нашему молодому путешественнику неиссякаемый источник сентиментальных восторгов при созерцании красот природы. Потому так любил он Швейцарию, в которой, по его выражению, "все, все забыть можно, все кроме Бога и натуры". Самое искусство казалось ему ничтожною игрушкой перед явлениями природы: "Что значат все наши своды перед сводом неба? - восклицает он, остановившись под куполом Св. Павла в Лондоне. - Сколько надобно ума и трудов для произведения столь неважного действия? Не есть ли искусство самая бесстыдная обезьяна природы, когда оно хочет спорить с нею в величии?"
По теории Карамзина, человек создан наслаждаться и быть счастливым. Источник счастия - природа, которая дает всему созданному вместе с бытием и наслаждение им. Союзы семейный и общественный потому нам дороги и милы, что основаны на природе. Самая смерть как явление естественное прекрасна, и ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей природы.
Своим действием на счастие человека искусства дополняют природу. Все прекрасное радует, в какой бы форме оно ни было. В мире нравственном прекрасна добродетель: "Один взгляд на доброго есть счастие для того, в ком не загрубело чувство добра". Религия ведет людей к добру и делает их лучшими. Декарт велик потому, что "своим нравоучением возвеличивает сан человека, убедительно доказывая бытие Творца, чистую бестелесность души, святость добродетели". В этих истинах молодой русский путешественник укреплялся, беседуя с Кантом, Гердером, Лафатером, Боннетом, находил доказательства в своем собственном сердце и в радостях, доставляемых природою и искусством, и наконец насладился не малым удовольствием в жизни, когда, "опершись на монумент незабвенного Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал о бессмертии".
Мм. гг., вы, без сомнения, ожидаете, чтоб в характеристике русского путешественника я коснулся одной крупной черты, которая, как живительный луч, освещает приветливым светом все его путевые впечатления, все его думы, надежды и мечтания. Это - самая горячая любовь его к родине, мысль о которой никогда его не покидает. Беседует ли он с Виландом о литературе, он не преминет сказать, что и на русский язык переведены некоторые из важнейших его сочинений. Веселится ли с лейпцигскими профессорами за бутылкою вина, он сообщает им, что и на русский язык переведено десять песней Мессиады Клопштока, и, чтоб познакомить их с гармониею нашего языка, читает им русские стихи. Вслушивается в мелодии швейцарских песен и ищет в них сходства с нашими народными, "столько для него трогательными". В Лондоне изучает английский язык и приходит к убеждению в превосходстве перед ним языка русского: "Да будет же честь и слава нашему языку, - восклицает он, -который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет, как гордая, величественная река -шумит, гремит - и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса".
Если русский путешественник всегда являлся перед иностранцами самым усердным, красноречивым и ловким адвокатом за Россию, то потому именно, что искренно убежден был в ее достоинствах. Во многом давал он ей предпочтение даже перед самою Англией, благосостоянием и устройством которой он столько восхищался, и несравненно выше Людовика XIV ставил Петра Великого, которого, говорил он, "почитаю как великого мужа, как героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля". В преобразованиях Петра он видел разумное примирение любви к родине с любовью ко всему цивилизованному человечеству.
Будущий автор "Истории государства Российского" посетил Западную Европу, когда во Франции зачинался громадный переворот, который должен был потрясти всю Европу. Карамзину суждено было прожить три месяца в Париже, в роковой период времени между штурмом Бастилии и казнью французского короля.
Был ли молодой русский путешественник настолько приготовлен, чтоб уразуметь открывавшийся на его глазах новый порядок вещей? Находил ли он в себе самом нравственную опору, чтобы руководствоваться твердыми убеждениями, когда все кругом его расшатывалось и рушилось, чтобы принять новый вид? Наконец, в какой мере образовало его исторический взгляд непосредственное наблюдение над одним из важнейших событий новой истории?
Карамзин был воспитан в идеях XVIII столетия, которые много способствовали французской революции.
Права человечества, основанные на законах природы, а не на искусственных условиях, свобода мысли и совести, и свободные учреждения - вот те мечты, которые молодой путешественник вывез с собою еще из России и которые в его воображении приняли вид действительности, когда он очутился в стране республиканской: "Итак, я уже в Швейцарии, - писал он из Базеля, - в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве".
Но эта действительность очень скоро оказалась мнимою. Уже и Базельская республика не во всем Карамзину полюбилась, что же касается до республики Женевской, то он увидел в ней наконец не более как прекрасную игрушку.
Идеал свободных учреждений остался идеалом; молодой мечтатель не переставал в него верить, но как светлую цель далеко отодвинул ее, когда лицом к лицу увидел недостойное для достижения ее средство, попавши как человек, застигнутый врасплох, в самую сумятицу переворота, сквозь тяжелую атмосферу которого в тысяче грязных и бессмысленных случайностей не мог он прозреть в ближайшем будущем ничего утешительного.
Уже по самой организации своей нежной души не терпел он ничего насильственного, резкого, болезненного. Не мог он равнодушно слышать жалоб нищеты, и вид физического страдания в больнице до того поражал его, что долго потом стон больных отзывался в его ушах; самоубийство считал он страшным нарушением законов природы; во имя человечества готов он был уничтожить тюрьмы, и в самой войне, даже в победе, видел только жестокую необходимость. Мог ли же он иначе, как с омерзением, относиться об ужасных сценах, которых он был во Франции очевидцем?
Потому-то так унылы и мрачны были его мысли, когда, направляясь от Лиона к Парижу, он бросает взоры на плодоносные поля по берегам Сены, мечтая о их первобытной дикости и опасаясь, чтоб опять когда-нибудь не водворилось на них прежнее варварство: "Одно утешает меня, - присовокупляет он, - то, что с падением народов не упадет весь род человеческий: одни уступают свое место другим".
То есть в необъятном горизонте исторического созерцания, в глазах будущего русского историка французская революция сокращалась до жалких размеров случайности, которая более имеет силу разрушающую, нежели зиждительную.
Именно в этом самом смысле касается он тогдашних событий - в письме из Лондона: "Здесь (т.е. в Англии) была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских положило свою голову на эшафот! Какое остервенение в сердцах! Какое исступление умов! Кто полюбит англичан, читая их историю!"
Как человек образованный, он отдает справедливость французской монархии, столько совершившей для образования, и страшится приближающегося ее падения. Как последователь Жан-Жака Руссо, он любит человечество на всех ступенях общественности, но в уличных забияках, бессмысленных и бесчеловечных, не решается видеть представителей французской нации. "Не думайте (однако ж), - писал он из Парижа, - чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона".
Находя опору в том убеждении, что "всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, что в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудной гармонии, благоустройству, порядку и что Утопия (или царство счастия) может быть достигнута только постепенным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов просвещения, а не гибельными, насильственными потрясениями", молодой русский путешественник в самом Париже, не смущаясь вспышками революции, продолжал учиться и тем больше убеждался, что науки - святое дело, когда с прискорбием видел, как безумные мечтатели мирную тишину ученого кабинета меняли на эшафот.
Потому-то, оставляя Париж, он посылает ему свое прощальное приветствие: "Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной, смотрел на твое волнение с тихою душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море".
Эту краткую характеристику ничем приличнее не умею заключить, как словами русского путешественника из его последнего письма: "Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей, в течение осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет будет для меня еще приятно... Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал... Почему знать? Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах ".
История, мм. гг., доказала, что "Письма русского путешественника" и через 70 лет не потеряли своего значения, и потомство нашло в них не одно приятное, но и много полезного.
Федор Иванович Буслаев (1818-1897) русский филолог, языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства, академик Петербургской Академии наук (1860).
Отчетность за сотрудников